Интервью с Олегом Владимировичем Демидовым — поэтом, прозаиком, критиком, литературоведом, куратором Литературной мастерской Захара Прилепина, редактором книжной серии «КПД» и куратором литературных программ в московском «Бункере на Лубянке» и нижегородском центре «Пешков». Телеграмм-канал «Тот самый Олег Демидов».
— Добрый день, Олег Владимирович. Расскажите, пожалуйста, о себе.
— Не хочется формально подходить и перечислять все регалии-побрякушки. Скажу просто: я человек, который положил на алтарь русской литературы свою жизнь. Много чем занимаюсь. Стараюсь быть полезным в самых разных сферах.
— Как Вы пришли к поэзии и литературной критике? Что вдохновило Вас на этот путь?
— По-моему, это само собой разумеющееся. Я бы задавал схожие вопросы иным свои знакомым: «Скажи, Серёг, а как ты пришёл к тому, чтобы сидеть в М-Видео в закуточке и одобрять или не одобрять людям кредиты? Ты об этом с детства мечтал?» Или: «Макс, а что вдохновило тебя продавать китайские машины втридорога? Тебя от этого, правда, штырит?» Литература и искусство в этом плане куда как логичнее с точки зрения выбора жизненного пути.
— Какие темы и идеи чаще всего затрагивают Ваши стихи? Есть ли у Вас любимые мотивы или образы?
— Я очень люблю глупости. Читать глупости. Писать глупости. Без них всё как-то слишком серьёзно. А где серьёзность — там вакуум, отсутствие воздуха и жизни, смерть.
— Как Вы пришли к преподаванию словесности? Что для Вас было самым ценным в работе с учениками церковно-приходской школы «Ладонка» и Лицея НИУ ВШЭ?
— Преподавание — это легальное дуракаваляние на постоянную аудиторию. Стендап, который всегда с тобой. Хочешь научиться писать (в том числе и шутки) — иди в школу и выступай перед детьми. Это самая суровая и притязательная аудитория.
— Как Вы совмещали преподавание с литературной деятельностью? Влиял ли Ваш педагогический опыт на творчество и наоборот?
— Ох, а ещё женился, занимался продажей одной квартиры и покупкой другой, обустраивал дачу, ссорился и мирился с друзьями, ходил в походы, завёл кота и детей — двух пацанов-разбойников, точнее трёх (если шерстяного монстра считать), сделал ремонт в новой квартире. В общем всё как-то совмещал. И всё на всё влияло — как иначе?
— Как Вы оцениваете современную русскую поэзию? Кого из современных авторов Вы считаете наиболее значимыми?
— Я — немалая часть современной поэзии, поэтому как я могу оценивать? Положительно, воодушевляюще, восхитительно! Но помимо меня, очевидного гения, есть ещё два неочевидных — два моих друга, два моих брата, два прекрасных поэта из поколений, что помладше моего, — это Дмитрий Ларионов и Амир Сабиров. Их ещё не носят на руках, но это дело времени. Сложные, оригинальные и хитровыдуманные стихи долго доходят до читателей. Сейчас, увы, все хотят два притопа, три прихлопа — чего попроще. И поэтому на слуху омываемые Азовским морем сапоги Жириновского и прочая халтура. Но и до настоящих стихотворений народ дорастёт — дайте только время.
— Расскажите о Вашей роли в книжной серии «КПД». Как возникла идея её создания? Как Вы работаете с Захаром Прилепиным и Алексеем Колобродовым?
— Помимо Прилепина и Колобродова я ещё работаю с Германом Садулаевым. И с Кирой Прилепиной. Отвечаю за поэзию, работу в архивах, редактуру прозы и за много что ещё. У нас dream-team. Сам себе завидую.
— Как Вы выбираете произведения для публикации в журналах?
— Интуитивно. Хаотично и интуитивно. Чуйка срабатывает. И пока ни разу не подводила.
— Как возникла идея создания антологии русской военной поэзии «Воскресшие на Третьей мировой»? Какие цели при её создании Вы перед собой ставили?
— Шёл далёкий 2022 год. В далёкой-далёкой Галактике случилась война, но никто к этому не был готов… Никто, кто маленького ордена настоящих поэтов. И тогда возникло острое желание собрать этот орден воедино и выискать ещё настоящих поэтов и джедаев, несущих свет. В итоге всё получилось как нельзя лучше.
— Как Вы работали над составлением антологии? Были ли сложности в отборе произведений?
— Для меня главная радость и одновременно главная сложность в работе — это люди. Хочется найти новый голос и новый талант. При этом от начала и до конца тебе остаётся только надеяться, что тебя, поверившего в тексты и в человека, их написавшего, не предадут, не подставят, не солгут тебе. А такое, увы, довольно часто случается. Но случается и обратное, когда завязываются добрые отношения, пишутся новые тексты, возникают иные проекты и пр. Человек сам по себе довольно любопытный материал для работы.
— Как Вы оцениваете роль военной поэзии в современной литературе? Почему эта тема важна для Вас?
— А какова роль войны сегодня? А завтра какой она найдет отклик в сердцах наших детей и внуков? Так и поэзия, и в целом искусство, описывающие войну и здраво рефлексирующие по её поводу, — важны. Если какое-то событие не отображено в художественном тексте, его как будто и не было. И вот Z-поэзия фиксирует бытие: оно есть, оно кровоточит, оно становится иконой.
— Расскажите о Вашей книге «Жизнь за други своя». Как возник этот проект, как Вы сотрудничали с фондом «Защитники Отечества»?
— Россия — страна маленькая, в ней всего-то 140 миллионов, самые активные и деятельные друг друга знают. Так произошло и с командой Захара Прилепина и фондом Анны Цивилёвой. Нашли общие точки приложения сил и начали работать. Фонд собирал материалы, мы с командой доводили их до ума, а в издательстве «Питер» («Лира») уже всё заворачивали в презентабельный вид. Коллаборация — и довольно знаковая и успешная.
— Является ли «Z-поэзия» отдельным направлением или это просто символ эпохи? Привнесла ли, на Ваш взгляд, она что-то новое в русскую поэзию?
— Z-поэзия главным образом даёт войне как метафизическому понятию и людям, в ней участвующим, возможность проговорить увиденное и прожитое. Зафиксировать в сознании и в бытии. Донести горькую правду и праведное слово до тех, кого война напрямую не коснулась (и слава Богу!), но кому необходимо быть со своей страной, со своими братьями и сёстрами.
— Как Вы относитесь к мнению, что патриотические авторы сегодня работают лишь за гранты?
— Гранты — это не привилегия, а тягостная, полная отчётов работа. Они частично покрывают расходы на большие проекты. Проекты — во благо страны и русской литературы. Если хейтеры разгоняют иную версию, а обыватели им верят, это печально и даже отвратительно. Никто же из них не пойдёт и не будет подавать свои заявки, правильно? Потому что у них нет таланта, нет оригинальных идей, нет больших проектов, а главное — у них нет команды, способной всё это реализовать. Потому что хейтеры и поверившие им обыватели умеют только сотрясать воздух.
— Расскажите, пожалуйста, как Вы попали в жюри премии «Национальный бестселлер»? Каковы Ваши впечатления от участия в этом процессе?
— Я сидел на своей первой квартире в Старых Химках, никого не трогал, готовился к лекциям, как вдруг получил письмо на электронную почту: так и так, Олег Владимирович, давно следим за Вами и Вашей критикой, хотим позвать в Большое жюри. И подпись: Вадим Левенталь. Радости не было предела! Наконец заметили и оценили по достоинству! Но это когда было? Сегодня я понимаю, что всё плюс-минус так и было, но есть нюансы. Литературный мир мал, все друг друга знают, но тем не менее не будет лишним, если тебя кто-то порекомендует. Кто тогда сказал за меня слово — не знаю, могу только догадываться. Но скажу, что и я в свою очередь стараюсь помогать молодым и талантливым. Такой вот круговорот взаимопомощи. Без этого никуда.
— Какая из Ваших наград или достижений наиболее значима для Вас? Почему?
— Я очень ценю медали за мини-футбол, полученные в студенческие годы, когда я играл за сборную Филологического факультета (и был капитаном) и сборную института МГПИ — на межвузовских соревнованиях: кубок педвузов, чемпионат Москвы, чемпионат России и пр. А литературные побрякушки — это блажь.
— Были ли моменты, когда критика помогала Вам расти как автору?
— Если ты не растёшь как автор, то ты умираешь. И тут дело не только и не столько в критике. Надо уметь подавать себя и даже навязывать, надо играть и исполнять, надо в конце концов надевать маску поэта и безумствовать, а мне, признаться, в последние годы это стало неинтересно. Утомляет. Я по-прежнему пишу, но уже без особой оглядки на кого бы то ни было. И получается ещё лучше прежнего.
— Какие книги или авторы повлияли на Вас в юности? Кого Вы считаете своими литературными учителями?
В детстве — Сергей Лукьяненко. В юности — Лимонов, Мариенгоф, Бегбедер: я по ним даже выпускной диплом писал! Их язык, стиль, утончённость и одновременно с этим — цинизм, натурализм на грани пошлости, провокативность — такой коктейль интересно было выпивать залпом и смотреть опосля на эффект. Но это всё болезни роста, так сказать. Серьезная работа со словом, нарративами и дискурсом началась после института, когда я начал самостоятельно изучать Виктора Пелевина и Захара Прилепина, Андрея Рубанова и Михаила Елизарова, Алексея Иванова и Андрея Аствацатурова и многих других. Но и это самостоятельное плавание в литературном пространстве — лишь один из этапов. Настоящее погружение началось в тот момент, когда я стал преподавать на Литературной мастерской Захара Прилепина и перезнакомился с большей частью коллег. Как сторонник биографического подхода в изучении художественного текста, я стал лучше понимать рассказы, повести и романы обозначенных выше писателей. Про поэтов — в принципе также могу сказать. Но с ними сближение началось намного раньше, ещё со студенческой скамьи.
— Как Вы относитесь к современным тенденциям в литературе, например, к цифровизации, появлению новых форматов и искусственного интеллекта?
— Никак не отношусь. Я старый и скучный человек: мне нужен писатель с его биографией и его текст. Всё остальное второстепенно. ИИ — дурость и блажь. Новые форматы пусть будут. Цифровизация идёт, её не отменить, но и физические носители никуда не денутся.
— Есть ли у Вас творческие планы на ближайшее будущее? Над чем Вы работаете сейчас?
— Планов много. И каждый месяц появляются новые. Пока надеюсь в этом году издать второе, исправленное и дополненное, издание биографии Анатолия Мариенгофа, а после — добить почти написанную биографию Исаака Бабеля. Остановлюсь на этом.
— Как Вы считаете, какую роль поэзия играет в современном обществе? Может ли она влиять на общественные процессы, помогает ли на фронте и в воспитании молодежи?
— Россия — огромная страна, в ней живёт свыше 140 миллионов человек. У всех вкусы разные. Кому-то помогает поэзия, кого-то вообще не касается. Но если говорить предельно честно и серьёзно, поэзия как высшая форма русского слова есть основа бытия. «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог…». Вот к Богу — через русское слово, через поэзию — и стремимся.
— Как Вы относитесь к взаимодействию литературы и политики?
— А как Вы относитесь к взаимодействию охраны природы и политики? Вопросам полового воспитания и политики? Организации сельского хозяйства и политики? Я — никак не отношусь, но, наверное, это взаимодействие есть.
— Как Вы начали работать с наследием Анатолия Мариенгофа и Ивана Грузинова? Что Вас привлекло в их творчестве?
— Наверное, всему виной обострённое чувство справедливости. Этих поэтов недостаточно замечали. Ну и… эстетика. У меня непревзойденный вкус! И шикарное чувство юмора! Я научился себе доверять: если от чего-то меня торкает, значит, это вещь стоящая. С этим надо работать.
— Почему Вы решили написать биографическую книгу об Анатолии Мариенгофе? Что нового Вы хотели рассказать о нём читателям?
— Это был денди, эстет, циник, изумительный поэт, гениальный прозаик и один из самых загадочных драматургов, кого мне доводилось читать. О нем не было ни одной биографической книги. Только исследования. И я решил: надо исправлять положение! Кто, если не я? Вообще этот принцип — главный в моей жизни. Я чётко понимаю: если я не займусь каким-то вопросом, им не займётся никто.
— Как Вы выбираете название для своих поэтических сборников? Например, что стоит за названиями «Белендрясы», «Акафисты» и «Арутаретил»?
— За названиями сборников стоит автор и улыбается, когда читатель ломает голову. Это чудесно и чудодейственно! Ничто так не радует автора, как вскипячённый мозг.
— Какой Вы видите эволюцию своего творчества, от первого сборника до последнего? Что изменилось в Вашем подходе к поэзии?
— Ну какая эволюция? Только революция! Каждый раз что-то новое! Постконцептуализм студенческого периода сменяется серьезными работами в том же направлении, а после вообще появляется книга верлибров. Сейчас готовлю к печати четвёртый сборник, и он тоже будет резко отличаться от первых трёх: в нём будет традиционная лирика — музыкальная, воздушная, вдохновенная.
— Вы стали куратором Литературной мастерской Захара Прилепина. Какие задачи Вы ставите перед собой в этой роли?
— Главная задача — искушать юных и доверчивых писателей всякими литературными непотребствами и смотреть на их реакцию. Выживших — инициировать в нашу секту и помогать дальше развиваться. Сбежавших — не догонять, не проклинать и главное — не вспоминать.
— Расскажите о Вашей работе в московском «Бункере на Лубянке» и нижегородском центре «Пешков».
— Труднее всего даётся приходить в эти обители человеческих страстей и храмы самых разных муз — и быть до конца серьёзным. Хочется кутежа и безудержного веселья, чтобы алкоголь лился фонтанами, звучала хорошая музыка, читались гениальные стихи — и всё это никогда бы не кончалось. Но, увы, так получается далеко не всегда. Чаще всего приходится работать: устраивать brainstorming, выстраивать расписание мероприятий, договариваться с писателями и музыкантами, реагировать на их капризы, гонять постные чаи, организовывать большие проекты, придумывать грантовые истории ну и всё в таком духе.
— Как возникла идея создания полного собрания стихотворений и поэм Эдуарда Лимонова? Как Вы оцениваете масштаб личности этого довольно скандального писателя, поэта и политика?
— Жить не могу, чтобы не подразнить гусей. Это дико весело! И Лимонов — гений из гениев, скандалист, порнограф, раздражитель мещан — тут как раз-таки в самый раз. Да и не стоит забывать о добрых литературных нравах: Лимонов повлиял на меня, очень сильно, и как на писателя, и как на человека. Надо отдать ему дань памяти. Поэтому возник поэтический четырёхтомник. И определенно будут ещё проекты.
— Почему Вы решили издать собрание сочинений Павла Шубина и Ивана Приблудного? Что делает их творчество актуальным сегодня?
— По любви. Всё в этом лучшем из миров делается только по любви. Если не по любви, получается лажа. Приблудный — единственный есенинский ученик, но, увы, не единственный собутыльник; человек весёлок и бесшабашной, но крайне трагической судьбы. Шубин — поэт, филолог, военкор Великой Отечественной, красавец, умница, секс-символ своего времени. Если современные барышни не познакомятся с их стихами и биографиями, каких мужиков они себе найдут? И найдут ли?
— Почему некоторые книги с пометкой 18+?
— Из песни и стиха слова не выкинешь. Вроде и хочется по-хорошему, но не всегда получается матерщинные слова не употреблять.
— Вы ведете соцсети. Имеет ли для Вас значение общение с читателями, обратная связь от них? Или соцсети нужны для каких-то других целей?
— Соцсети разные. И периоды нахождения в них разные. Пока работал в школе, отдушиной был ФБ: там писал всё, что хотел. Потом ушёл из школы, а в ФБ настала цензура — теперь главной отдушиной служит ТГ. Читатели? Это сложный вопрос. Виртуальное общение обостряет и без того острые углы. Я иногда закрываю комментарии, потому что понимаю: провокационную шутку не поймут. Или — на правду обидятся. Какой-то фидбек, конечно, нужен, но иногда хочется просто высказаться. Просто высказаться и всё. Чтобы дальше тишина была.
— Общаетесь ли с нашими воинами?
— Общаюсь, дружу, поддерживаю. Когда получается, выезжаю с ништяками. Когда надо, помогаю в столице.
— Что бы Вы пожелали нашим солдатам, их близким, которые ждут их дома, медикам, волонтерам, тыловикам и в целом россиянам?
— Что пожелать? Чтобы кончилась война. Нашей Победой. И чтобы всё было по высшей справедливости.
Мария Коледа





 English
English Deutsch
Deutsch Italiano
Italiano Francais
Francais Espanol
Espanol










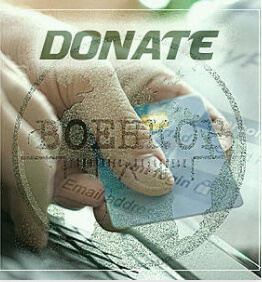



Для того чтобы оставить комментарий, регистрация не требуется